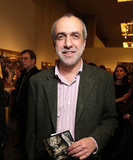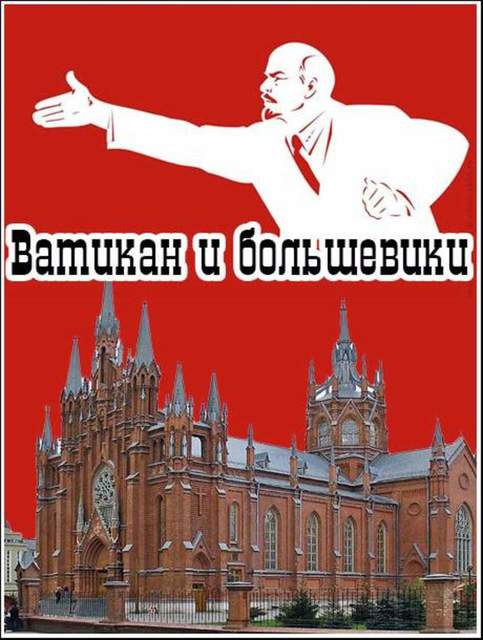
Отрывок из книги "Культура и религия Запада. Религиозные традиции Европы: от истоков до наших дней". М., 2009.
Приход к власти Бенедикта ХV (1914-1922) совпал с началом Первой мировой войны, расколовшей христианский мир на два лагеря и продемонстрировавшей крайнее падение авторитета Ватикана как духовно-идеологической силы. Папа осудил войну как «чудовищный спектакль», «страшную бойню, позорящую Европу», «самоубийство цивилизованной Европы», «самую тёмную трагедию человеческого безумия». Причиной её он называл дехристианизацию мира и безверие. Однако, хотя Ватикан и оставался нейтральным, требуя уважения международных норм, он отказался чётко осудить нарушения международного права (например, вторжение Германии в Бельгию) и хранил молчание по поводу военных преступлений, осуждаемых обоими лагерями. Характерно, что Клемансо называл его «папой-бошем», Людендорф – «французским папой», а писатель Леон Блой – «Пилатом ХV».
В действительности, если сама курия раскололась на две партии – сторонников Антанты и сторонников Центральных держав, то папа сочувствовал последней, надеясь в случае победы Германии и Австро-Венгрии укрепить свои позиции за счёт православной России.
 В 1915 г. Бенедикт ХV попытался призвать воюющие стороны к «справедливым стремлениям народов», а в августе 1917 г., уже после февральской революции в России и вступления в войну США, он внёс ноту с предложениями для мирных переговоров. Но американский президент В.Вильсон, готовивший собственную программу «14 пунктов», отклонил посредничество папы, что обрекло мирную акцию папы на неудачу. Единственная область, где церковь могла себя тогда проявить, была служба милосердия и помощи раненым и заключённым, осуществляемая при сотрудничестве со Швейцарией и Красным Крестом...
В 1915 г. Бенедикт ХV попытался призвать воюющие стороны к «справедливым стремлениям народов», а в августе 1917 г., уже после февральской революции в России и вступления в войну США, он внёс ноту с предложениями для мирных переговоров. Но американский президент В.Вильсон, готовивший собственную программу «14 пунктов», отклонил посредничество папы, что обрекло мирную акцию папы на неудачу. Единственная область, где церковь могла себя тогда проявить, была служба милосердия и помощи раненым и заключённым, осуществляемая при сотрудничестве со Швейцарией и Красным Крестом...
После войны Святой престол, в соответствии с тайным Лондонским соглашением с Итальянским королевством от 1915 г., не участвовал в Парижской мирной конференции, хотя представитель папы, секретарь Конгрегации по чрезвычайным делам присутствовал в Париже и устанавливал полезные контакты с различными делегациями стран-преемниц Австро-Венгрии. Он добился того, что 238 статья Версальского договора признавала наднациональную роль Святого престола в миссионерской деятельности в бывших немецких колониях. В целом папа критически оценил Парижский мир, указав в энциклике Pacem Dei minus, что Версальский и Сен-Жерменский договоры не устранили причин старых разногласии и не добились действительного примирения.
Перенеся без особых потерь послевоенные революционные изменения, Ватикан рассматривал в качестве важнейшей своей задачи установление отношений с новыми государствами Центральной и Восточной Европы и подписание соответствующих конкордатов. При Бенедикте ХVI число государств, представленных в Ватикане, увеличилось с 14 до 27. В 1921 г. были восстановлены отношения Святого престола с Францией.
Между тем, наиболее важные перемены происходят в восточной политике Римско-католической церкви. И трудно понять причины поддержки, оказанной папой австро-германскому блоку, не зная того, какие надежды связывал Ватикан с крушением исторической России. В годы, предшествовавшие войне, главным средством вовлечения православных России в сферу влияния католицизма была Брестская Уния. Однако, хотя Уния и навязывала стирание всех восточных особенностей в различных областях религиозной жизни, а униатское духовенство внешне подражало католическим священникам (служило в латинских церквах, на таких же престолах, без иконостасов, читало проповеди по-польски и др.), униатство никогда не было для Ватикана важным самим по себе, а должно было сохраняться до удобного случая, который позволил бы с наибольшей лёгкостью проникнуть на российские пространства. Униатские церкви были «предметом терпимости», поскольку рассматривались лишь как предвосхищение объединения латинской и восточной традиций под эгидой Рима путём введения на славянских землях католичества восточного обряда[1].
 С началом первой мировой как раз сложилась такая ситуация, при которой Ватикан получил возможность в случае победы австро-германского блока и разгрома России подчинить своему полному влиянию западнорусские земли и обеспечить дальнейшее продвижение в Россию. Именно этим и объяснялась прогерманская позиция папы и его сдержанность в осуждении нарушения немцами норм международного права. Недаром один из высоких ватиканских сановников, объясняя, почему Ватикан был против Франции во время войны, воскликнул: «Победа Антанты с союзной Россией была бы столь же великой катастрофой для католической Церкви, как некогда Реформа» (а ещё Пий Х говорил: «если победит Россия, победит схизма»)[2]. Главным центром по подготовке соответствующих для этого условий была находившаяся в составе Австро-Венгрии Галиция (называемая «украинским Пьемонтом»), а ключевую роль тут призван был сыграть униатский прелат митрополит Галицкий Архиепископ Львовский и Каменец-Подольский Андрей Шептицкий (1826-1944).
С началом первой мировой как раз сложилась такая ситуация, при которой Ватикан получил возможность в случае победы австро-германского блока и разгрома России подчинить своему полному влиянию западнорусские земли и обеспечить дальнейшее продвижение в Россию. Именно этим и объяснялась прогерманская позиция папы и его сдержанность в осуждении нарушения немцами норм международного права. Недаром один из высоких ватиканских сановников, объясняя, почему Ватикан был против Франции во время войны, воскликнул: «Победа Антанты с союзной Россией была бы столь же великой катастрофой для католической Церкви, как некогда Реформа» (а ещё Пий Х говорил: «если победит Россия, победит схизма»)[2]. Главным центром по подготовке соответствующих для этого условий была находившаяся в составе Австро-Венгрии Галиция (называемая «украинским Пьемонтом»), а ключевую роль тут призван был сыграть униатский прелат митрополит Галицкий Архиепископ Львовский и Каменец-Подольский Андрей Шептицкий (1826-1944).  Шептицкий был старшим сыном богатого польского магната графа Яна Шептицкого, придворным императорского австрийского двора и офицером столичного уланского полка. Будучи правоверным римо-католиком он под руководством отцов-иезуитов прошёл обучение в Добромильском монастыре василиан, готовившем кадры для греко-католической церкви. Карьера его была успешной и стремительной. Сначала он был назначен игуменом большого львовского монастыря василиан, через восемь лет – занимает станиславскую епископскую кафедру в Галиции, а через два года становится митрополитом Галицким.
Шептицкий был старшим сыном богатого польского магната графа Яна Шептицкого, придворным императорского австрийского двора и офицером столичного уланского полка. Будучи правоверным римо-католиком он под руководством отцов-иезуитов прошёл обучение в Добромильском монастыре василиан, готовившем кадры для греко-католической церкви. Карьера его была успешной и стремительной. Сначала он был назначен игуменом большого львовского монастыря василиан, через восемь лет – занимает станиславскую епископскую кафедру в Галиции, а через два года становится митрополитом Галицким.
Незадолго до войны совместно с участием австрийских политиков и военных митрополит обсуждал планы и возможности реального вклада галицийских украинцев в победу над Россией, формировал состав руководящих звеньев буржуазно-националистических группировок, которые должны были не только нанести удар по русским дивизиям, но и способствовать деморализации ближайшего тыла русских путём организации «волнений» среди населения Приднестровья, Винничины и Житомирщины. Для этого митрополит начал создавать разветвлённую униатскую сеть в России, которая после победного завершения войны могла бы стать базой для повсеместного и быстрого насаждения католицизма на Востоке. С первых дней войны Шептицкий вместе с представителями императорского правительства занялся формированием воинских подразделений украинских сечевых стрельцов – «усусов» для удержания ценой жизни русских армий на границах Галиции. В своём секретном послании императору Францу-Иосифу он писал: «Как только победоносная австрийская армия вступит на территорию русской Украины, нам придётся решать три задачи: военной, правовой и церковной организации края». В Малороссии планировалось создать под контролем австро-немецкой военной администрации марионеточный режим, которому была обещана обещана поддержка со стороны униатской церкви[3]. С середины ХIХ в. Рим очень внимательно изучал и исследовал малейшее политическое, идеологическое и институционное движение, которое могло бы поколебать православный мир. После февральской революции и падения царского режима в России, которые Ватикан встретил с радостью[4], он полностью пересмотрел русскую политику и разработал совершенно новый приём борьбы с Православием, который мог бы безболезненно и не возбуждая подозрения подчинить русских Святому престолу. Место униатства и беспощадной латинизации должно было занять католичество «восточного обряда», которому отводилась роль «того моста, по которому Рим войдёт в Россию»[5]. Речь шла о том, чтобы полностью сохранить православным литургию, обряд, пастыря, каноническое право, иконографию и т.д., но подчинить их юрисдикции римского епископа, что требовало признать его первосвященство. Девизом нового начинания было «nec plus, nec minus, nec aliter», то есть всё должно было быть в точности как у Русской синодальной церкви. Главную роль тут призваны были сыграть иезуиты. Уже 31 мая 1917 г. в Риме была создана новая консистория - Конгрегация для восточной церкви, во главе которой встал сам Бенедикт ХV и где были сосредоточены все административные дела католиков «восточного обряда». Чуть позже был открыт Папский Восточный институт, призванный изучать догматические, литургические и канонические вопросы и духовные традиции Православных церквей. Тогда же предпринимается первая попытка воплотить новую идею на практике: в Петрограде митрополит Шептицкий проводит собор Униатской церкви в России, которая признавала примат и дисциплинарные постановления папы, но сохраняла восточный обряд и обязательные канонические правила Восточной церкви. Экзархом церкви стал секретарь Шептицкого протопресвитер о. Л.Фёдоров,
 которому приписывают слова: «Россия не обратится иначе, как пройдя через море крови своих мучеников и через великие страдания своих апостолов». Этот акт был скреплён подписями представителей латинского клира, а также присягой восточного клира папе и экзарху. Временное правительство пригласило его как представителя «восточного обряда» в комиссию по делам католической церкви в России, а в октябре 1917 г. министр исповеданий А.Карташёв легализовал «восточный обряд» в тех формах, которые были установлены на Синоде. А в марте 1921 г. Бенедикт ХV утвердил о.Л.Фёдорова экзархом с пожалованием ему титула апостольского протонотария.
которому приписывают слова: «Россия не обратится иначе, как пройдя через море крови своих мучеников и через великие страдания своих апостолов». Этот акт был скреплён подписями представителей латинского клира, а также присягой восточного клира папе и экзарху. Временное правительство пригласило его как представителя «восточного обряда» в комиссию по делам католической церкви в России, а в октябре 1917 г. министр исповеданий А.Карташёв легализовал «восточный обряд» в тех формах, которые были установлены на Синоде. А в марте 1921 г. Бенедикт ХV утвердил о.Л.Фёдорова экзархом с пожалованием ему титула апостольского протонотария.
Теперь католики и православные могли беспрепятственно встречаться в чисто русской обстановке, под руководством и водительством русских католических священников, которые сотрудничали с представителями православного духовенства.
 После октябрьской революции, когда начался террор против Православной церкви, сопровождаемый массовыми убийствами православных священников, Ватикан воспользовался этой ситуацией, чтобы водвориться в России, заместив собою Православие. Патриарх Тихон в своём воззвании от 1 июля 1923 г. писал: «Пользуясь происходящей у нас неурядицей в Церкви, римский папа всячески стремится насаждать в Российской Православной Церкви католицизм». Рим пытался представить крушение России и жертвы большевизма как божественное наказание за неповиновение, искупить которое может только союз с Римом. Показательно в этом отношении признание бенедиктинца Хризостома Бауера: «Большевики умерщвляют священников, оскверняют храмы и святыни, разрушают монастыри. Но не в этом ли как раз заключается религиозная миссия безрелигиозного большевизма, что он обрекает на исчезновение носителей схизматической мысли, делает, так сказать, «чистый стол» («tabula rasa») и этим даёт возможность к духовному воссозиданию». Ему вторил один из венских католических органов печати: «Большевизм создаёт возможность обращения в католичество неподвижной России»[6]. Характерно также признание экзарха русских католиков Л.Фёдорова, сделанное им в марте 1923 г. перед Ревтрибуналом: «С тех пор, как я отдал себя католической Церкви, моей заветной мыслью было примирить родину мою с этой Церковью, для меня единственной истинной. Но мы были непонятны правительством… Все латинские католики вздохнули, когда произошла октябрьская революция… Я сам приветствовал с энтузиазмом декрет об отделении Церкви от государства… Только перед советским правительством, когда Церковь и государство были отделены, могли мы вздохнуть свободно».
После октябрьской революции, когда начался террор против Православной церкви, сопровождаемый массовыми убийствами православных священников, Ватикан воспользовался этой ситуацией, чтобы водвориться в России, заместив собою Православие. Патриарх Тихон в своём воззвании от 1 июля 1923 г. писал: «Пользуясь происходящей у нас неурядицей в Церкви, римский папа всячески стремится насаждать в Российской Православной Церкви католицизм». Рим пытался представить крушение России и жертвы большевизма как божественное наказание за неповиновение, искупить которое может только союз с Римом. Показательно в этом отношении признание бенедиктинца Хризостома Бауера: «Большевики умерщвляют священников, оскверняют храмы и святыни, разрушают монастыри. Но не в этом ли как раз заключается религиозная миссия безрелигиозного большевизма, что он обрекает на исчезновение носителей схизматической мысли, делает, так сказать, «чистый стол» («tabula rasa») и этим даёт возможность к духовному воссозиданию». Ему вторил один из венских католических органов печати: «Большевизм создаёт возможность обращения в католичество неподвижной России»[6]. Характерно также признание экзарха русских католиков Л.Фёдорова, сделанное им в марте 1923 г. перед Ревтрибуналом: «С тех пор, как я отдал себя католической Церкви, моей заветной мыслью было примирить родину мою с этой Церковью, для меня единственной истинной. Но мы были непонятны правительством… Все латинские католики вздохнули, когда произошла октябрьская революция… Я сам приветствовал с энтузиазмом декрет об отделении Церкви от государства… Только перед советским правительством, когда Церковь и государство были отделены, могли мы вздохнуть свободно».
 Политика Бенедикта ХV была продолжена новым папой Пием ХI (1922-1939), осуществлявшим уже готовую программу, задачи которой заключались в том, чтобы, во-первых, достигнуть соглашения с большевиками по поводу католицизма и, во-вторых, утвердить католицизм «восточного обряда». Как писал посол Франции в Ватикане: «С момента восшествия на престол папа мечтает присоединить Русскую Православную Церковь к Римской Церкви. Он никому не хочет уступать русский народ и всячески обхаживает его правительство»[7]. Таким образом, Православие оказалось жертвой двух враждебных ему принципов: католичества и коммунизма, интересы которых в этом деле совпадали. Считая, что Православие «созрело, чтобы упасть в руки Рима», Ватикан делал всё, чтобы снискать расположение советов, закрывая глаза на большевистский террор (в частности на расстрел в апреле 1923 г. католического епископа Буткевича и заключение других шести епископов). Большевики, в свою очередь, заинтересовались католическим вариантом - как в силу его лояльности к новому строю, так и в силу его вековой вражды к Православию, позволявшей использовать его в качестве главного орудия борьбы против русского национального чувства.
Политика Бенедикта ХV была продолжена новым папой Пием ХI (1922-1939), осуществлявшим уже готовую программу, задачи которой заключались в том, чтобы, во-первых, достигнуть соглашения с большевиками по поводу католицизма и, во-вторых, утвердить католицизм «восточного обряда». Как писал посол Франции в Ватикане: «С момента восшествия на престол папа мечтает присоединить Русскую Православную Церковь к Римской Церкви. Он никому не хочет уступать русский народ и всячески обхаживает его правительство»[7]. Таким образом, Православие оказалось жертвой двух враждебных ему принципов: католичества и коммунизма, интересы которых в этом деле совпадали. Считая, что Православие «созрело, чтобы упасть в руки Рима», Ватикан делал всё, чтобы снискать расположение советов, закрывая глаза на большевистский террор (в частности на расстрел в апреле 1923 г. католического епископа Буткевича и заключение других шести епископов). Большевики, в свою очередь, заинтересовались католическим вариантом - как в силу его лояльности к новому строю, так и в силу его вековой вражды к Православию, позволявшей использовать его в качестве главного орудия борьбы против русского национального чувства.  Соглашения с большевиками было поручено добиться кардиналу Пьетро Гаспарри, который в 1922 г. на Генуэзской конференции вступил в переговоры с Чичериным и обещал России дипломатическую поддержку (в качестве символического жеста он подарил Чичерину красную розу). Как вспоминал Чичерин, «Пий ХI в Генуе был любезен со мной в надежде, что мы сломим монополию православной церкви в России и тем самым расчистим ему путь». В 1925-1927 гг. переговоры с Чичериным вёл кардинал Пачелли – папский нунций в Германии (будущий папа Пий ХII, он же "папа Гитлера" - прим. ред.). В архивах французского МИДа сохранилась секретная телеграмма № 266 от 6 февраля 1925 г. из Берлина, которая сообщает, что советский посол в Берлине Крестинский заявил кардиналу Пачелли, что Москва не будет сопротивляться устройству на русской территории католических епископов и митрополита и что католическому духовенству будут вообще представлены самые благоприятные условия[8].
Соглашения с большевиками было поручено добиться кардиналу Пьетро Гаспарри, который в 1922 г. на Генуэзской конференции вступил в переговоры с Чичериным и обещал России дипломатическую поддержку (в качестве символического жеста он подарил Чичерину красную розу). Как вспоминал Чичерин, «Пий ХI в Генуе был любезен со мной в надежде, что мы сломим монополию православной церкви в России и тем самым расчистим ему путь». В 1925-1927 гг. переговоры с Чичериным вёл кардинал Пачелли – папский нунций в Германии (будущий папа Пий ХII, он же "папа Гитлера" - прим. ред.). В архивах французского МИДа сохранилась секретная телеграмма № 266 от 6 февраля 1925 г. из Берлина, которая сообщает, что советский посол в Берлине Крестинский заявил кардиналу Пачелли, что Москва не будет сопротивляться устройству на русской территории католических епископов и митрополита и что католическому духовенству будут вообще представлены самые благоприятные условия[8].
 На первый план в ватиканской политике сближения выдвигается фигура французского иезуита, ректора Восточного института, епископа Михаила д’Эрбиньи, вставшего во главе комиссии «Pro Russia», утверждённой в 1925 г. при Конгрегации восточных церквей для подготовки кадров священнослужителей, воспитанных на принципах уважения любой политической власти и приемлемых, таким образом, для советов. Д’Эрбиньи трижды приезжал в советскую Россию для участия в переговорах с советскими ответственными работниками и с представителями различных религиозных течений России, «Живой Церковью», «Обновленческой Церковью» и Патриаршей Церковью[9]. После возвращения он опубликовал в 1926 г. в Париже труд «Религиозный облик Москвы», в котором положительно отзывался о большевистском режиме[10].
На первый план в ватиканской политике сближения выдвигается фигура французского иезуита, ректора Восточного института, епископа Михаила д’Эрбиньи, вставшего во главе комиссии «Pro Russia», утверждённой в 1925 г. при Конгрегации восточных церквей для подготовки кадров священнослужителей, воспитанных на принципах уважения любой политической власти и приемлемых, таким образом, для советов. Д’Эрбиньи трижды приезжал в советскую Россию для участия в переговорах с советскими ответственными работниками и с представителями различных религиозных течений России, «Живой Церковью», «Обновленческой Церковью» и Патриаршей Церковью[9]. После возвращения он опубликовал в 1926 г. в Париже труд «Религиозный облик Москвы», в котором положительно отзывался о большевистском режиме[10].
Особое значение в своей политике насаждения католицизма Рим стал придавать криптокатолицизму (тайному католицизму), в соответствии с которым на патриарший престол в России планировалось возвести епископа, тайно давшего присягу папе, то есть тайно перешедшего в католичество[11]. Затем он должен был подписать унию, которую Россия приняла бы в ответ на щедрый жест Рима – дар мощей св. Николая Угодника. Криптокатолицизм не требует формального разрыва с Православной церковью, а предполагает негласное принятие духовного лица в сущем сане в лоно католицизма, то есть в евхаристическое общение и иерархическую связь с римским епископом, и продолжение его служения в Православной Церкви с целью постепенного насаждения среди прихожан симпатии к Святому престолу и католическому учению. Именно на это делал ставку д’Эрбиньи. Следуя своим планам, он тайно посвятил в епископы для России П.Э.Невэ, которого стали величать «епископом вся Руси» и который получил полномочия разрешать обращённым при переходе из Православия в католичество сохранять в тайне свою новую конфессиональную принадлежность. Известно, что в 1932 г. православный архиепископ Варфоломей (Ремов) под влиянием епископа П.Э.Неве был тайно принят в католичество, став викарием «Апостолического администратора» Москвы (то есть П.Э.Невэ) для католиков восточного обряда.
Ещё одним средством приобщения к католицизму был биритуализм или «двухобрядчество», творческой лабораторией реализации которого стали восточные воеводства Польской республики, в границах которой после заключения мирного договора с советской Россией оказалось несколько сот тысяч православных русских. Суть его сводилась к тому, чтобы католические священники в будние дни служили мессу в костёлах как обычные ксендзы, а затем, переодевшись в православные одежды, превращались в «борцов со схизмой», совершая миссионерские рейды по православным сёлам. В случае перехода в католичество для православных можно было делать алтари византийского обряда в приделе или подвале костёла. Ксендзы-биритуалисты должны были работать на первом этапе, а потом им на смену должно было прийти новое поколение священников, сформированных в семинарии византийского обряда. Завершиться это должно было созданием собственной иерархии для католиков византийского обряда в Польше. Биритуалистический проект осуществлялся в течение 20-30-ых годов, но распался после оккупации Польши Германией и присоединения Западной Белоруссии и Западной Украины к СССР.
1925-1927 гг. были кульминацией в сближении между Ватиканом и Москвой. Ситуация меняется после подписания митрополитом Сергием (Страгородским) от имени Церкви известной декларации о лояльности властям, после чего Москва положила конец переговорам с Ватиканом, потеряв к нему интерес. В 1929-1930 гг. Рим окончательно признал, что потерпел политическое поражение и стал громко выступать против большевистских преступлений, которых он до этого не замечал. В 1930 г. Д’Эрбиньи издаёт свой новый труд «Антирелигиозная война в Советском Союзе», а Пий ХI оглашает послание, которое знаменовало окончательный разрыв Ватикана с советской властью. В 1934 г. была упразднена комиссия Pro Russia, а в 1937 г. появляется папская энциклика «Divini Redemptoris», обличающую безбожный коммунизм.
 Осознав крах своей восточной политики, Рим, тем не менее, не оставил идеи «восточного обряда», которую он продолжал реализовывать среди православных в Польше, в Балтийских государствах и в среде русской эмиграции. Если с 1922 г. по 1929 г. Ватикан официально высказался о «восточном обряде» 85 раз письменно и устно, то в период с 1929 г. по 1938 г. – 68 раз. В этой политике появились и новшества. Во-первых, Католическая церковь стремилась теперь показать, что «восточный обряд» в глазах Римского престола столь же свят, как западный латинский обряд. Во-вторых, католичество желало полнее выразить свою вселенность и исправить его понимание исключительно как латинства и западничества, так как это не допускало единения с ним Востока. Эта мысль была проведена в энциклике Mortalium animus, смысл которой сводился к тому, что существует только одна Кафолическая церковь, которая вмещает в себя и Православие, подчинению которой папе мешает иерархия, которую надо устранить.
Осознав крах своей восточной политики, Рим, тем не менее, не оставил идеи «восточного обряда», которую он продолжал реализовывать среди православных в Польше, в Балтийских государствах и в среде русской эмиграции. Если с 1922 г. по 1929 г. Ватикан официально высказался о «восточном обряде» 85 раз письменно и устно, то в период с 1929 г. по 1938 г. – 68 раз. В этой политике появились и новшества. Во-первых, Католическая церковь стремилась теперь показать, что «восточный обряд» в глазах Римского престола столь же свят, как западный латинский обряд. Во-вторых, католичество желало полнее выразить свою вселенность и исправить его понимание исключительно как латинства и западничества, так как это не допускало единения с ним Востока. Эта мысль была проведена в энциклике Mortalium animus, смысл которой сводился к тому, что существует только одна Кафолическая церковь, которая вмещает в себя и Православие, подчинению которой папе мешает иерархия, которую надо устранить.  Идеи обрядового перевоплощения последовательно реализовывались в учреждённой в Риме в 1929 г. русской коллегии «Руссикум», представлявшей собой «семинарию для будущих апостолов России». Первоначально форматорами семинарии состояли практикующие биритуалисты иезуитского ордена, которые служили в том обряде, которого требовала обстановка. Но с 1933 г., с приходом нового руководства, «Руссикум» глубоко погружается в византийский обряд и «инкультурируется» в русскую национальность. Стремясь сделать «восточный обряд» родным для русских, Рим пытался добиться полного уподобления Православию. Большую роль в деле доведения до совершенства имитации византийского обряда стал играть Шеветоньский монастырь в Бельгии[12], основанный монахами-бенедектинцами. Монастырь мог служить примером такой подлинной православной литургии и церковной жизни, каких было не найти даже в иных православных приходах. Однако полное внешнее сходство не могло воспроизвести внутренней веры, ведь основными принципами этого учреждения были: «римский дух, восточная душа, монастырский устав и католическое чувство». «Восточный обряд» оставался лишь обрядом, оболочкой без содержания, сводился к чистой формальности и терял свой смысл.
Идеи обрядового перевоплощения последовательно реализовывались в учреждённой в Риме в 1929 г. русской коллегии «Руссикум», представлявшей собой «семинарию для будущих апостолов России». Первоначально форматорами семинарии состояли практикующие биритуалисты иезуитского ордена, которые служили в том обряде, которого требовала обстановка. Но с 1933 г., с приходом нового руководства, «Руссикум» глубоко погружается в византийский обряд и «инкультурируется» в русскую национальность. Стремясь сделать «восточный обряд» родным для русских, Рим пытался добиться полного уподобления Православию. Большую роль в деле доведения до совершенства имитации византийского обряда стал играть Шеветоньский монастырь в Бельгии[12], основанный монахами-бенедектинцами. Монастырь мог служить примером такой подлинной православной литургии и церковной жизни, каких было не найти даже в иных православных приходах. Однако полное внешнее сходство не могло воспроизвести внутренней веры, ведь основными принципами этого учреждения были: «римский дух, восточная душа, монастырский устав и католическое чувство». «Восточный обряд» оставался лишь обрядом, оболочкой без содержания, сводился к чистой формальности и терял свой смысл.  Поэтому он не мог привлечь сколько-нибудь широких масс православных верующих, и за время миссии выпускникам Руссикума не удалось создать практически ни одного русского католического прихода, который бы состоял из действительно русских людей. Как писал экзарх русских католиков Л.Фёдоров, «из восточного семинариста в Риме выбьют весь восточный дух (и не нарочно), обучат обряду и пускают на родину. Понятно, что он не может произвести ничего оригинального и схизматикам даётся лишний аргумент в руки, что восточный католик – ряженая обезьяна»[13]. Главной миссионерской областью для наступления в эти годы вновь становятся малороссийские и белорусские земли Польской республики. Но поскольку поляки имели свои виды на православие и осуждали всё, что делалось в Риме в связи с «восточным обрядом», главную роль в его насаждении стали играть немцы и литовцы. Так заканчивается период польской борьбы за католичество в России и начинается период немецкий.
Поэтому он не мог привлечь сколько-нибудь широких масс православных верующих, и за время миссии выпускникам Руссикума не удалось создать практически ни одного русского католического прихода, который бы состоял из действительно русских людей. Как писал экзарх русских католиков Л.Фёдоров, «из восточного семинариста в Риме выбьют весь восточный дух (и не нарочно), обучат обряду и пускают на родину. Понятно, что он не может произвести ничего оригинального и схизматикам даётся лишний аргумент в руки, что восточный католик – ряженая обезьяна»[13]. Главной миссионерской областью для наступления в эти годы вновь становятся малороссийские и белорусские земли Польской республики. Но поскольку поляки имели свои виды на православие и осуждали всё, что делалось в Риме в связи с «восточным обрядом», главную роль в его насаждении стали играть немцы и литовцы. Так заканчивается период польской борьбы за католичество в России и начинается период немецкий.
[1] Протод. Герман Иванов -Тринадцатый, "Русская Православная Церковь лицом к западу", Мюнхен, Обитель преп. Иова Почаевского, 1994. С.210.
[2] Диакон Герман Иванов-Тринадцатый, "Ватикан и Россия. Доклад, прочитанный на 24-ом Съезде Русской Православной Молодёжи в год Тысячилетия Крещения Руси", Новосибирск, «Русский архив», 1991, с.14.
[6] Там же. С. 63.
[7] Цит. по: Протод. Герман Иванов -Тринадцатый. Указ. соч., с. 243.
Доп. редакции: Джон Корнвол в книге «Папа Гитлера» о жизни Пиуса XII (в миру Эудженио Пачелли), рассказывает, что он, вероятно, был одним из наиболее опасных церковником в современной истории. В начале ХХ века Пачелли был блестящим ватиканским юристом, который помог сформировать новую идеологию беспрецедентной папской власти. Будучи папским посланником в Мюнхене и Берлине в 1920-ых, в 1933 году он заключает соглашение с Гитлером, гарантирующее, что католическое сообщество не будет оказывать противодействия приходу нацистов к власти.При этом Пачелли лично контактировал с Ротшильдами, ведя переписку с Ги де Ротшильдом за 8 лет до того, как стать Папой (за что получает прозвище «Папа Ротшильдов»)
Эудженио Пачелли принадлежал к членам «Черных Аристократов» - небольшой группы аристократических семей Рима, которые поддержали Римских Пап после конфискации их владений во время борьбы за создание единой Италии. И отец Пачелли, и его дед, так же принадлежали к касте ватиканских юристов, обслуживающих папский престол с 1819, когда его дедушка, Маркантонио Пачелли, начал изучение церковного права в Ватикане, под покровительством кардинала Просперо Катерини. К 1834 Маркантонио стал адвокатом в «Трибунале Священного Роты» - высшего аппеляционного суда Римско-каталической церкви, а затем, во время революции 1848—1849 годов в Папской области, - главным помощником Пиуса IX, известного как "Пио Ноно". После убийства папского министра Пелегрино Росси, папе пришлось бежать из Ватикана. Ему удалось вернуться только год спустя - с помощью посредничества Пачелли, французских штыков и кредитов Ротшильда, с котором у папского престола с тех пор образовался тесный союз
[12] Монастырь и сегодня играет важную роль в осуществлении тайной прозелитической деятельности Ватикана в Православном мире.
[13] Цит. по : Священник Сергей Голованов. "Биритуализм: перегрузка матрицы"// Вселенство –новости Кафолического Православия, http://vselenstvo.narod.ru/library/bimxreload.htm
 Официальный сайт Болгарской Православной Церкви сообщает: Решение Св. Синода Болгарской Православной ЦерквиВ связи с обсуждаемым в публичном пространстве вопросом об отношении Болгарской Патриархии к принятым на Критском соборе документам заявляем, что в Святом Синоде БПЦ БП всё еще не получили официально этих документов.
Официальный сайт Болгарской Православной Церкви сообщает: Решение Св. Синода Болгарской Православной ЦерквиВ связи с обсуждаемым в публичном пространстве вопросом об отношении Болгарской Патриархии к принятым на Критском соборе документам заявляем, что в Святом Синоде БПЦ БП всё еще не получили официально этих документов.